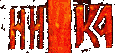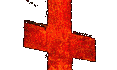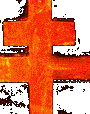 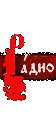    
|
Все в тобi! РубрикиПримеры благочестияСтрастотерпец Аввакум Царь Михаил Митрополит Алимпий Ананий Килин Рябушинские Анна ПутинаСогласыПоповцы
Беспоповцы
Святые места Старой ВерыМосква Поморье Поволжье Алтай Забайкалье Приморье Малороссия Эстляндия Лифляния Литва АмерикаАпологетика Старой Веры, свидетельстваЕвангелие Ветхий Завет Номоканон Кормчая (II) Китежский лет-цДревнерусская библиотекаО сотворении Адама Сказание, как сотворил Бог Адама О АдамеОбрядКрещение |
Господи.
Iсусе Христе, Сыне Божiи, помилуй нас грешныхъ!
ФИЛОЛОГЪ АВВАКУМЪ 1. Суждение евразийцев
об основоположнике современной русской литературы
1. Суждение евразийцев
об основоположнике современной русской литературыНет сомнения, что самыми проницательными русскими мыслителями нашего столетия были евразийцы. Им не удалось создать законченную мировоззренческую модель. Среди них не было философов блистательных и уникальных. Но глобальные подходы, к которым они приблизились, пути исторического, геополитического, мировоззренческого и социологического анализа, которые они наметили, спустя полстолетия оказались самыми актуальными, плодотворными, жизненными и перспективными. На грани нового тысячелетие великое и не понятое, не осмысленное пока наследие евразийской мысли открывается в новом свете. Практически все интуиции евразийцев (за редким исключением) обладают колоссальным значением. Среди прочего важна их филологическая, литературоведческая позиция. Особенно нас интересует типичный для евразийцев культ протопопа Аввакума, которого они рассматривали как основоположника современной русской литературы.Вслед за ними это мнение настолько утвердилось, что стало хрестоматийным. С чисто филологической точки зрения, староверы были сторонниками московского извода церковнославянского языка, и поэтому в период никоновской справы они вошли в конфликт со сторонниками киевского, малороссийского извода. Языковая проблема была внешним выражением столкновения двух богословских традиций — восточно-русской, московской, предельно консервативной, и западнорусской, во многом затронутой униатским, среднеевропейским, а то и откровенно католическим духом. Так в сфере филологии отразились фундаментальные метафизические противоречия, а исправление книг и грамматические переделки текстов иллюстрировали колоссальные изменения в богословской и геополитической ориентации Руси. Староверы, остро, страстно, болезненно и катастрофически воспринявшие лингвистические и обрядовые новины прагматика Никона, фактически продолжали холистскую традицию подлинно сакрального общества, где язык, богословие, обряд, государство, социум и геополитика неразрывно связаны между собой. Так как евразийцы были безусловными апологетами москвоцентризма, то филологическая подоплека реформ Никона трактовалась ими в старообрядческом ключе (подробнее см. нашу статью Евразийство и старообрядчество, Вторжение №2 в газете Завтра 1998, № 23(236)). Вслед за славянофилами евразийцы рассматривали романовский, и особенно послепетровский, период российской истории, как западничество и аномалию. Отсюда повышенный мировоззренческий и филологический интерес к старообрядческой литературе. Но это лишь один аспект проблемы. В данный момент нас больше интересует не позитивная оценка евразийцами московской церковной филологии, но определение Жития протопопа Аввакума как первого памятника современной русской литературы. Это совершенно иная плоскость.
В статье Литература как зло (см. День Литературы1998 №5 ) мы выяснили историко-онтологическое (и даже эсхатологическое) значение появлении литературы как таковой. Момент ее рождения совпадает с переходом границы от сакрального общества к обществу профаническому, светскому, десакрализированному. Литература возникает как синдром онтологической катастрофы, как эсхатологическое знамение. Вопрос об ответственности самой литературы за негативную, подрывную ориентацию, которую она собой знаменует, мы оставили открытым. Тезис литература как зло более корректно следовало бы сформулировать, литература как выражение (или отражение) зла. Такое уточнение, наличествовавшее и в предыдущей статье, существенно поможет нам в рассмотрении вопроса о месте и роли Пустозерского сборника в филологической и онтологической истории Руси. Применив принцип появления литературы как синдрома зла (в отношении холистского, сакрального общества, общества традиционного, которое только и следует брать в качестве нормативной парадигмы) к истории русской словесности, мы однозначно приходим ко второй половине XVI века. Раскол в русской истории есть та точка, которая разделяет две совершенно различные реальности – сакральную Русь (Святую Русь) и десакрализованную, светскую Россию. Национальная онтология раздваивается. Святая Русь становится Китежем, национальной мечтой, преданием, параллельной Родиной (см. А.Дугин Параллельная Родина (Никола Клюев) и Яко не исполнися число звериное... в книге Тамплиеры Пролетариата, М, 1997 ), уходит в бега и гари, в секты, в глубину народа, в оппозицию, в глубинку. Светская Россия движется в направлении современного мира, модернизируется и вестернизируется, рвет связи с корнями и традициями, с обычаями и ритуалами, с вероисповедническим и бытовым наследием сакрального периода. Следовательно, именно в эпоху раскола — с чисто логической точки зрения — и должна была зародиться современная русская литература. Как только мы делаем такой априорный, онсованный на дедукции вывод, мы тут же наталкиваемся на е утверждение евразийцев (в целом принятое позднее и конвенциональным литературоведением) о роли протопопа Аввакума как первого современного русского писателя. Все сходится. Историческое явление обнаруживается именно там, где оно должно было бы находиться в соответствии с нашей концептуальной реконструкцией парадигмы русской истории.
В Житии Аввакума поражает вторжение в конвенциональный церковный язык некоего нового компонента. Это реальная русская речь, почти разговорная, естественная интонация, обнаженный язык, филологическая печать того обнаженного бытия-в-риске, о котором учил Мартин Хайдеггер. В типичный жанр обычных житий творение протопопа Аввакума никак не укладывается. Еще и потому, что автор при жизни составляет свое житие, предвосхищая колоссальную онтологическую значимость своей личной биографии, сознавая ее особое уникальное значение. Формально Житие иногда всё же сближается с каноническими парадигмами русской житийной литературы. Местами узнаются классические топосы исторических хроник или эпистолярные штампы и обороты речи. Но все это лишь элементы совершенно новой конструкции, в которой осью является специфика воспаленной точности описания, сверхпристальной, сверхвнимательной и революционно доскональной передачи нюансов событий и переживаний отдельной личности. Именно это составляет то, что структуралистское литературоведение называет термином повествование (recit) в отличие от языка (langue) или речи (parole, discours). Сверхточность в описании событий или переживаний с усугубленной экзистенциальной окраской и является характерной чертой собственно литературы. От канонических моделей текстовых произведений в сакральной обществе самое существенное отличие состоит в том, что современное литературное повествование обнаруживает некий новый, никогда не существовавший ранее момент — момент спонтанного столкновения с некодифицируемым фактом, с катастрофической реальностью, не умещающейся в интерпретационные модели сакральных смысловых структур. Возникает нечто, что в полном смысле не укладывается в голове. Черная молния обнаженного бытия , трагически вырвавшегося из циклического ритма объяснений. (Подробнее см. Литература как зло, op. cit.) Житие Аввакума впервые в русской словесности обнажает этот новый пласт. Таже с Неръчи-реки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. [Обратите внимание на литературную точность описаний: фактическую две кляи и сенсуальную убивающеся об лед. — А.Д.] Страна варваръская, иноземцы немирные; отстать от лошедей не смеем, а за лошадьми итти не поспеем, голодные и томные люди. [Взгляд на себя со стороны, будто кто-то другой видит всю картину. Развитие этого топоса дает гигантский объем дексриптива, составляющего одну из главных черт собственно литературы — А.Д.] В ыную пору протопопица, бедная, брела, брела, да и повалилась, и встать не сможет. А иной томной же тут же взвалился: оба карамкаются, а встать не смогут. [Карамкаются, а встать не смогут — представьте себе такое выражение в эпизодических сценах Жития древних русских святых или в официальных хроникальных документах. Это не возможно. Соврешенно очевидно, что здесь речь идет о радикально новой реальности. — А.Д.] Опосле на меня, бедная, пеняет: Долго ль-де, протопоп, сего мучения будет? И я ей сказал: Марковна, до самыя до смерти. Она же против тово: Добро, Петрович, и мы еще побредем впред. [Внешне это илююстрация традиционого для христианства восприятия земной жизни как искутельного, спасительного страдания, особенно тяжелого у избранных Христом к делу великого служения. Но за драматической идеально христианской волей протопопа и конечным смирением его жены проглядывают совершенно особые, новые ноты. Православная истина утверждается здесь в особой чувственной манере, в некоем бытийном коме, вырванном из Старой Руси, Святой Руси — где Вера, Царство, семья, природа, люди, мир, пребывали в взаимопроникновенном и нерасторжимом сакральном синтезе, — но вброшенном обесквроенную, начинающую стремительно распадаться реальность. Это хрестоматийно православный диалог мужа и жены перед лицом особого зрителя, отчужденного, решительного, внезапно выпившего из реальности кровь национальной световой жизни. Перед лицом антихриста. В обращении Петрович, в интимно семейной эсхатологической окраске этого эпизода заложена формула народного понимания святости в послераскольной период. Стремление схватить этот элемент, высветить, зафиксировать его двигал теми русскими литераторами, которые интуитивно стремились пробиться к сакральному, используя филологические инструменты, желая через литературу преодолеть литературу. С другой стороны, декомпозиция свято-национального бытия под леденящим дыханием антихриста впервые ставило проблему спасения как индивидуальное дело. И в даннмо пассаже их Жития мы также видим отправную черту староверческой этики — жесткую индивидуальную позицию, радикальную личную сотериологическую решимость в условиях острого конфликта с окружающей реальностью. Святость всегда достигалась с великими трудами. Но есть фундаментальное различие: индивидуальные усилия по стяжанию спасения на фоне в целом благоприятствующей реальности, масштабно солидарной — хотя бы в теории — с вектором личной аскезы, это одно дело. Другое дело, когда и без того невероятно сложный путь проходит в среде, не просто инертной, но агрессивно отвергающей саму направленность личных усилий верующего. И самое драматичное, что такой враждебной средой на глазах становится свое собственное только вчера бывшее святым отечество; не миры иноверцев и инородцев, а родная, пронизанная лучами Третьего Рима Русь! Начиная с этого диалога Православие окончательно и универсально становится Традицией в изгнании, гонимой Верой повсюду и даже на самой Руси. Фундаментальный факт этого изгнания и мучительный поиск нового суьбъекта спасения и дает всей сцене невероятной силы экзистенциальный колорит. В принципе, если бы этот короткий фрагмент был до конца осознан, адекватно прочитан, многие великие произведения русской литературы (консервативно-революционного характера) были бы излишни.] Курочка у нас была черненькая, по два яичка на всякдень приносила. Бог так строил робяти на пищу. По грехом, в то время везучи на нарте, удавили. Ни курочка, ништо чюдо была, по два яичка на день давала.” В такие и аналогичные моменты Жития Аввакума перед нами встает шершавый лик мира, в котором все внезапно разладилось. Идеалы Домостроя и не заслуживающая описаний индивидуальная борьба человека против того, что отвлекает его от соответствия сакральным нормам, все это остается за кадром. Всплывает голая человеческая и историческая природа. Появляется во всем ее необработанном виде ошалелая онтология катастрофы. Не просто личная драма индивидуума, борющегося с обстоятельствами. Такая реальность известна во все времена и во всех обществах, в сакральных также. Но эти перипетии проходят в сакральных обществах в канве позитивных парадигм, и любое экзистенциальное напряжение разрешается в всеобъясняющем мифе, где индивидуум абсорбируется архетипом. Поэтому, к примеру, в легендах и повествованиях Средневековья, часто говорится о том, что близкие родственники, выросшие вместе, не узнают друг друга через небольшой срок разлуки в новых ситуациях. На эксплуатации этой темы построено множество сюжетов. Речь идет о том, что ситуации в сакральном обществе значат гораздо больше, нежели индивидуальности. Архетип поглощает конкретную личность. На этом основана также устойчивая в сакральных сюжетах идеи — подмены. Индивидуальность стерта перед ролевой, функциональной стороной человека или предмета. Доля неосмысленного, не учрежденного гносеологическими моделями индивидуально-материального веса существа или вещи бесконечно-мало. Поэтому само страдание дегуманизировано, ритуализировано. Человек страдает, так как он недостаточно тождественен архетипу, а следовательно, это вполне нормально и должно восприниматься как нечто закономерное. Даже с юмором. В Житии страдание совершенно иного рода. Оно неигровое, нефункциональное. Марковна, ребятишки, курочка, купание в холодной воде, пытки, мучения принадлежат уже совершенно иному миру, где их индивидуальный объем существенно, качественно выше. Поэтому и страдание столь пронзительно. Столь остро и вызываемое им соучастие. А это классическое качество литературы как таковой. Когда мы читаем о страданиях святых и подвижников, мы восхищаемся ими, рассматривая это как высокий образец, как архетип, как модель. Мы не сопереживаем им, мы видим в их пути подтверждение фундаментальной нормы, которая в очередной раз утверждается вопреки вполне естественным помехам. Когда мы читаем историческую хронику о нашествии на Русь инородцев, об их зверствах, мы напитываемся яростью и желаем утвердить снова и снова наше я, нашу верность корням и павшим за Отечество. Историческое повествование о голоде, море, язвах, вызывают у нас механические помыслы о том, какие обширные бывают катастрофы и какое значение они могли иметь для жизни народа. Когда мы читаем места из Жития Аввакума о Марковне и детишках, нас пробивает соврешенно иное, пронзительное, слепое, неархетипическое, но глубоко задевающее чувство. Будто фрагмент реальности, тяжелой, необработанной, сырой, невыносимо гнетущей своим наличием, вырван из поля плоских схем и брошен нам в лицо. Отчетливо начинаем мы понимать, что что-то не так. По большому счету, по крупному, радикально не так. Не в судьбе протопопа, не в несправедливостях и самодурстве властей, не в развертывании исторических цепей. Что-то не так вообще. Что-то не так с миром. Эпизод с падением Марковны и курочкой вываливается из логики мировой истории, рушит, крушит модели мира. Открывает незаделываемые, фатальные трещины. Мы соприкасаемся с донным, глубинным злом, с фонтаном экзистенциальной эсхатологической нефти.
В Житии Аввакума впервые в русском тексте внезапно и без предупреждения появляется человек. Этот человек — сам протопоп Аввакум. Он же и первый русский писатель. Этот человек дышит и страдает, чувствует и переживает, борется и мучается, ждет и жаждет, надеется и негодует. До Аввакума русский человек был сакрализирован, принадлежал сфере абсорбирующего архетипа. Он был надежно защищен от экзистенциальных бездн щитом священного быта. Ангелы, святые и начальства надежно охраняли его от неосмыслимого дыхания факта. Аввакум лишен этого. Он рожден к трагическому, расколотому новому бытию, в котором отсутствуют древние анагогические спирали смыслов. Перед ним зловеще, грандиозно и невместимо встает зарево Ничто. Не в силах справится с открывшимся античудом, Аввакум бросается к надеждам, уповает на метанойю Царя, на преодоление иерархами странной и необъяснимой комы перед лицом явной ереси западнических новин. Но жуткая догадка проникает в его сознание все яснее и яснее. Реальность из благословенной размытости духовного видения, не различающего физических деталей из-за поглощенности обобщающим синтезом, фокусируется в режущий жгучий ком. Задавленная курочка, дававшая ребятишкам яйца в трудной и голодной ссылке, приходит с того света гранитной плитой. В традиционном мире нет таких курочек. Курочек самих по себе, индивидуализированных, самостийных, в каком-то смысле аутогенных. (Отсюда буквально — ни курочка, ништо чюдо). Аввакумовская курочка — первая . В ее случае впервые смерть становится необратимой. Это важнейший знак наступления Ничто. Заря этого страшного откровения посещает Аввакума в детстве при созерцании мертвой скотины. — Аз же, некогда видев у соседа скотину умершу, в той нощи воставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молитися. Аввакум со всей грандиозностью истины фиксирует в своем Житии катастрофу. И осмысляет ее в терминах Православия. То, что он переживает, принадлежит особому миру, в котором все не так. Уже не так. Это мир антихриста, вселенная конца времен. Ее онтологический стержень, ее сотериологическая лествица утрачены, отъяты, удалены. Необратимые ветры Ничто свирепствуют над вчера еще богоизбранной страной, крушат и стригут вчера еще богоносный народ. Гонения, удары, голод, головокружения, пытки, пожары, гари, четвертования, мутиляции, обрубание языков и конечностей. Моря крови. Дьяволофания охватывает последний островок сакральности — Русь. И на пороге, на критической неравновесной черте, на кромке онтологического обрыва одинокая фигура протопопа. Он последний человек Святой Руси, сохранивший полноту ее священного сознания, содержание ее спасительной, сладкой плоти. Он последний человек-архетип, последний русский. И в нем, в буйстве и прозрениях его, бурлит и светится Вся Русь, национальный холос, онтологический пульс Веры и Церкви. Но он же и первый человек-неархетип, первый маленький человек, вброшенный в окружение бездн, отвесов утратившего содержание, отчуждающегося бытия. Два человека (первый и последний) соответствуют двум стилям в филологии Жития Аввакума. Классические богословские и житийные топосы — это сакральный пласт, за ним сонмы безымянных авторов, хронистов, агиографов, писарей. Пронзительный дискриптив курочки и детишек, диалога с Марковной — пост-сакральное откровение. В нем как в матрице читается Станционный смотритель, Шинель, Кроткая, Бедные люди — все маленькие бедные люди великой и проникновенной русской литературы, литературы последних бездн.
В Житии Аввакума зафиксирована смена фундаментальных онтологических состояний, поэтому значение этого памятника трудно переоценить. На границе безвозвратной утраты сакрального и эры катастрофической экзистенциальности сталкиваются между собой два мира, две реальности, два насыщенных невероятным бытийным жаром модуса бытия — национального и универсального. Это момент рождения литературы; быть может, ни в одной культуре не виден он с такой потрясающей наглядностью. Но история русского народа есть зеркало мира, его онтологии, его эсхатологии. Русь не локальный колорит, не этно-географический заповедник — истерическое нагнетание всех главных вопросов бытия, стремительное суммирование бездонных проблем, концентрация ужасающих вопросительных знаков, поставленных на заре Творения и зреющих к разрешению в огнепальном конце верен. Какова доктринальная подоплека протопопа Аввакума как архетипа, как последнего человека Традиции? Какова его свидетельская, еще нелитературная ипостась? Аввакум как апокалиптический свидетель воплощает в себе краткий курс православной экклесеологии в ее эсхатологическом аспекте. Модель такова: Церковь Христова выйдя из катакомб при Константине Великом устанавливает в подпорченном, пред-окончательном бытии уникальную область Спасения, корабль Веры, новую онтологию ”усыновления” отпавшего человечества, дошедшего своими темными путями до нижнего предела истории. Церковь и Империя объединяются на обещанный 1000-летний период в домостроительную литургическую симфонию. Византийский император — удерживающий, катехон — является при этом важнейшей эсхатологической фигурой, пока он есть сын погибели не приход в мир. Православная Церковь и Православная Империя подчиняют темные силы ада, но враг не дремлет. В XVIII веке каролингские монархи Запада совершают узурпацию императорского титула, еретически разрушая сотериологию катехона. Ватикан идет еще дальше и уклоняется от путей спасения в латинскую ересь. В XI веке Запад отпадает окончательно, а в XIII доказывают свою кощунственную, антихристианскую, еретическую сущность позорным осквернением Константинополя и Храма Святой Софии. Позже сбываются страшные сроки, и сама Византия — оплот Православия и ось Империи — отступает от своего предназначения, идет на поклон к латинским еретикам. Флорентийская Уния. Порча Византии в духовном смысле тут же отражается на материальном уровне — турки-агаряне разоряют ее. Предательский Запад помогать не собирается. Колоссальная эсхатологическая катастрофа. Конец Традиции в православно-византийском, последнем истинно христианском смысле. Но тут поднимается Русь, свободная, православная, верная заветам изначальной Церкви, Русь-Церковь, Русь-Империя, Русь-Царство, Русь-”катехон”, Святая, Трисвятая Русь, последняя, сакральная точка. К Москве стягивается весь вес христианской сотериологии и эсхатологии, к русскому обряду, к русскому царю, к русскому народу. Московский период — пик сакральной истории. Время мало, на которое задерживается приход сына погибели. Но все более тревожно на западных границах Руси. Малороссы и белорусы готовы пойти по темным путям греков, многие склоняются к унии, к латинству. Лучшие умы Руси — такие как Захария Копыстенский (Книга о Вере) — видят в этом угрожающие признаки конца. И тут грянул раскол. Пресловутая справа. Никоновские реформы обряда и богослужебных книг. Все выдержано в новогреческом, малороссийском, почти откровенно униатском духе. (Подробнее см. А.Дугин Мы Церковь Последних Времен, Завтра1998 №.1 (214) и Москва как идея и Ось Русского Круга в ж-ле Моя Москва, №№ 2-3 1998). Аввакум-богослов, Аввакум-эсхатолог, Аввакум-свидетель грозно утверждает колоссальный духовный сакральный вес того, что кончается и открывает покров наступающих на Русь бездн. Самые избранные, верные и чистые столкнутся с самыми низкими тупиками кошмара, падения, отступничества. Отсюда не имеющая аналогов насыщенность богословского дискурса протопопа. Мы теряем ВСЕ. Ничто пронзительно косит на Русь ядовитым дыханием. Собака Никон, охмуренный Царь, впавший в помрачение, из-за конъюнктурной прагматической политики посягающий на самое святое. Обалделый клир, оглушенный и нерасторопный, притихший и покорный, как бы разом все забывший, запамятовавший Максима Грека и Стоглав, Грозного и Филофея. Внезапно духовно обмякший, обмороченный, промороженный народ. На Святую Русь легло ледяным покровом безотзывное, необратимое дыхание сатаны. И закрылись глаза, заснули души, отвердели сердца. Мор духовный, наваждение, тотальная амнезия, безволие, обессиливающий шок. Еще пылает в душе Аввакума-свидетеля Бытие, еще теплятся угли Святой Родины, такой близкой, знакомой, угадываемой здесь и теперь за первым инеем сына погибели. Но уже ясно ощущается зима. Мы, сошедъшеся со отцы, задумалися; видим, яко зима хощет быти; сердце озябло, и ноги задрожали. Зима антихриста. Русь после Руси. Церковь после Церкви. В Житии протопопа Аввакума богословский эсхатологический дискурс становится тем отчетливее, тем более выпуклым, чем острее граничит он с собственно литературой. Литература — явление зимнее. Это атрибут утвердившегося антихриста. Протопоп с ужасом чувствует ее приближение. Огромную роль в структурной лингвистике, шире в современной филологии, играет (предложенное Ф.Соссюром) разделение основного предмета изучения на собственно язык (langue) и речь (parole или discours). Язык представляет собой потенциальное поле филологических возможностей, на базе которого формируются конкретные высказывания. Язык — структурированный синхронный резервуар, предопределяющий рамки возможных дискурсов. Структуралисты ”языку” уделяли особое повышенное внимание, так как обнаружили, что именно на этом, фоновом уровне концентрируются смысловые императивы, в огромной мере предопределяющие содержание речи. Иными словами, то, что говорится на данном языке, в огромной, почти решающей степени, зависит от того, каков этот язык сам по себе. Переход от сакрального общества к обществу пост-сакральному, профаническому, является катастрофическим изменением этой предопределяющей стихии языка. Профанизм не просто одно из возможных высказываний, это — язык, язык зимы и полуночи, резко, бритвенно контрастирующий с летним, полуденным языком Традиции. Поэтому сюжеты отрубания языка (священника Лазаря, Феодора, дьякона Епифания) играет столь важную в повествовании Жития. Никоновские реформы стремится отсечь язык Традиции, святорусский Язык, предопределяющий смысловую структуру высказываний. Но Аввакум-свидетель сообщает, что вырезание языка страстотерпцам-староверам не лишает их речи. Вырастает новый язык; с плотской телесной наглядностью, высшим доказательством неизменности, сверхвременного присутствия Традиции появляется он снова во ртах мучеников Истинной Веры. Эти чудесные языки казнимых старообрядцев есть единый язык, противоположный тому, что назовут потом языком литературным. Не речи, не высказывания сталкиваются между собой в фундаментальной для русской истории парадигме раскола — бьются языки, литературный и свидетельский, осененные двумя противоположными духами — духом полноты и духом пустоты, духом наличия и духом сосущей, зияющей пустоты. Нетленный характер подлинно сакрального языка проявляет себя в жестоком мучительстве и в последующем за ним чуде восстановления, реинтеграции. В последний час, в сладко чаемый миг Пришествия, все, все будет восстановлено. Помните каков был язык Спасителя, явившегося к Иоанну Богслову, чтобы возвестить Апокалипсис? Все понимают, какую роль в русской словесности играет Александр Сергеевич Пушкин. Романтическая легкость, наивный психологизм, дерзкий мегаломанический эгоизм этого, бесспорно, одареннейшего человека гипнотизирует не только убежденных прогрессистов, но и многих консерваторов. Существует даже тенденция рассматривать неглубокие легковесные псевдо-христианские разглагольствования Пушкина (особенно в переписке со священниками) как доказательство его традиционализма. Светский скептик, богохульник, масон и индивидуалист подчас выдается чуть ли не за пророка-мудреца. Ладно еще, когда пушкиниана становится объектом исследования полисектантских искателей и гностиков Серебренного Века. Но умиленные вздохи Ах, Пушкин! сплошь и рядом встречаешь среди самой консервативной, ностальгико-монархической публики. Да и сам новообрядческий клир едва ли способен посягнуть на устоявшийся миф, не вдаваясь в его генеалогию, не решаясь вынести свое суждение, к примеру, о Гаврилиаде шаловливого африканского кудрявца. Но если всерьез посмотреть на то, что Пушкин написал, мы не увидим там вообще ни одной темы, сопряженной с Традицией или ее языком. Обаятельная светская подделка под фольклор, зачаточный экзистенциализм, крайне остроумное копирование европейских романтиков. Если и есть в этом архетипические мотивы, то они либо связаны с инерциально задействованными сюжетами народных сказок и легенд, либо с элементами масонского символизма. Язык Пушкина является современным языком, тем, что по задумки палачей-реформаторов XVII века должно было заменить собой отрубленные языки старообрядческих исповедников. Это литература без свидетельствования, Россия без Руси. Причем реальный трагизм, расколотость души, страстное ожидание очистительного пламени, что составляет нерв Жития Аввакума, испарено, забыто, преодолено. Более ста лет новообрядчества не прошли даром. С ядовитым богохульником, ничто же сумняшись, переписывается, обменивается плоскими моралистическими сентенциями никонианский иерарх. Именно это — литературу — предвидел, прозревал, предчувствовал скорбный гений Аввакума. Здесь нет личной вины литератора, и едва ли все можно вести к проблеме морали и ответственности. Язык диктует, предопределяет высказывание. Пушкин не творец языка, он жертва эсхатологической метаморфозы языка, он инструмент повествования пост-сакрального языка о себе самом. На этом строится его культурологический культ в десакрализированной России, частью которой является и пост-сакральная новообрядческая религиозность. Но это вопрос отдельный и сопряженный с ересеологией. Фридрих Ницше, трагичнейший из современных мыслителей, назвал одну из своих работ Мы, филологи. Невозможно мыслить, философствовать и при этом не мыслить и не философствовать о языке. Невозможно корректно высказывать что бы то ни было, формулировать какую бы то ни было идею или соображение до тех пор, пока серьезному и неторопливому исследованию не подвергнется сфера языка, сфера фоновых, закадровых парадигм, где обитают смыслы и связи, где плетутся первозавязи речи, еще не отделившейся от живой матрицы. Любое наше историческое, мировоззренческое, культурологическое или искусствоведческое замечание или мнение — от самых незначительных до самых обобщающих — нуждается в огромной предварительной работе по выяснению подразумеваемой подоплеки, по выявлению той невидимой базы, не выступающей открыто, но постоянно наличествующей и часто — в тайне от нас самих — посещаемой в глубинных пластах сознания, в соответствии с которой мы думаем, говорим и пишем именно это, а не нечто иное. Пока мы не схватим субтильного, постоянно ускользающего детерминизма языка, возможности нашего познания будут прочно блокированы. Читая или высказывая, обдумывая или оспаривая, мы почти всегда совершаем механические, никак не затрагивающие нашу суть действия, полностью предопределенные устройством культурно-интрепретационного аппарата. Мы духовно живем под бременем глубокого гипноза, въевшейся в нашу сердцевину суггестии, невидимого внушения, и смиряясь с этим, отказываясь травматически проламываться в опасные миры, где зарождаются идеи, слова и знаки, мы отказываемся от высшего нашего предназначения, от сиятельной свободы нашего двуного рода. Если мы не филологи, тогда мы вообще никто. Пара понятий сакральное и несакральное (современное) является не речевой, но языковой. Эти категории предопределяют то, на каком языке, в какой системе координат мы собираемся говорить, думать, беседовать. Точку зрения несакрального на сакральное мы прекрасно знаем. Это легко вычленимая реакция тины, покрывающей дно сознания наших современников. Сакральное — это преодоленное, старое, невнятное, предшествующее, предварительное, незаконченное. Оттенок взгляда профанического на сакральное может меняться от умеренной симпатии или любознательного интереса (консерватизм) до ярости и презрительной неприязни (прогрессизм). Но все объединяется полным непониманием смысловых и языковых основ. Эта позиция — общее место, и если мы сможем опознать то, что нам кажется само собой разумеющимся, как нечто искусственно запрограммированное, мы уже очень далеко продвинемся по пути познания. Точка зрения сакрального на несакральное — это апокалиптическое свидетельство. Самый ясный и убедительный, законченный и выразительный пример этого — Житие протопопа Аввакума. В отвлеченно философских терминах аналогичную грандиозную картину отразил Рене Генон в книгах Кризисе современного мира и в Царстве Количества и знаках времени. На чашах весов два мира, два народа, два государства, две страны, две стороны света, две Церкви, два языка. Огненный поцелуй гарей, вырванный язык старообрядческих страдальцев, отрубленная кисть, застывшая в двуперстном знамении, молниевидное и кровоточивое свидетельствование Аввакума — наша культура, наша лингвистика, наш лагерь смыслов. Маленький человек — факт. Наш общий факт. Но это не триумф развития и не вершина справедливости. Мучительное, невыносимое изгнание, пытка, наказание, расплата за что-то совершенное или несовершенное. Маленький человек есть казнь Великого Человека. И лишь неизмеримым страданием способен оплатить он невыносимую предоставленность самому себе. В желтых комнатах, избах, скитах, в перекошенных путях, залитых ворчливой грязью, заворожена Русь непонятой, нерасшифрованной проповедью Аввакума. Никакого прямого вывода из нее сделать невозможно. Это не триумфальная, жизнеутверждающая программа. Это поражение в самое наше сердце невыразимой, идущей от каких-то далеких, запрятанных, невероятно печальных бездн Бытия, неформулируемой тоской. Русской тоской, от которой вызревают в зачарованном народе Кирилловы и Шатовы, Настасьи Филипповны и Мышкины, Карамазовы и Незвановы, все как один родом из Раскола, Раскольниковы — все неудачные, обреченные, заколдованно не прямые, будто осененные ледяной порчей, которую безуспешно силятся избыть, скинуть, снять, развеять. Но таковые законы зимы. Ноги дрожат... Умный волк — темный умелец антихрист — рыщет на отсырелых, просевших просторах завороженной Родины. |
ГарьДугинскиететрадки Беседа Ответы на вопросы Евразийство и староверие Абсолют византизма Преодоление Запада Имя моё - топор Эссе о галстуке Полюс русского круга Капитализм Террор против демиурга Возвращение бегунов Такое сладкое нет Кадровые Сторож, Сколько ночи О Третьем Риме Яко не исполнилось число звериное Филолог Аввакум Мы Церковь последних времен Москва как идея Доклад на Соборе РДПЦ, белокриничан Старая Вера, круглый стол в газете Завтра Старообрядчество и Русская Нац.Идея Никола Клюев - пророк секретной России Грани Великой Мечты 
|