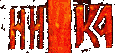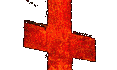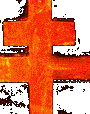 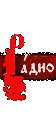    
|
Все в тобi! РубрикиПримеры благочестияСтрастотерпец Аввакум Царь Михаил Митрополит Алимпий Ананий Килин Рябушинские Анна ПутинаСогласыПоповцы
Беспоповцы
Святые места Старой ВерыМосква Поморье Поволжье Алтай Забайкалье Приморье Малороссия Эстляндия Лифляния Литва АмерикаАпологетика Старой Веры, свидетельстваЕвангелие Ветхий Завет Номоканон Кормчая (II) Китежский лет-цДревнерусская библиотекаО сотворении Адама Сказание, как сотворил Бог Адама О АдамеОбрядКрещение |
Господи.
Iсусе Христе, Сыне Божiи, помилуй нас грешныхъ!
МЫ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНИХЪ ВРЕМЕНЪ1. Подготовка к последнему событию Никто не знает этого дня, даже ангелы небесные, не то что мы. Но знаки его слишком явно разбросаны повсюду. Кажется, что больше и ждать незачем, что вот-вот придет страшный миг, последняя тайна беззакония откроется и все кончено. А затем и такой долгожданный, такой томительно чаемый миг Славы Господней... Помните торжественные слова Псалтыри: Входит Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Но Творцу виднее, когда совершаться предначертанному в точности — не прообразовательно, но совершенно и безотзывно. Ясно одно — наступит это скоро. Очень, очень скоро. И нам нельзя страдательно дремать в преддверии столь важного события. Кроме того, исключительный сейчас момент, чтобы заново поставить многие вопросы, тревожившие людей и ранее. 2 тысячи лет ждало человечество предначертанной секунды, когда время столкнется с вечностью, а тварный мир — с его нетварной причиной, с его скрытой частью. Это называют последним деянием Святого Духа, обнаружением его домостроительной тайны в истории. Со всех сторон и во всех формах дуют на нас ветры Конца Времен, пугая, пригибая к земле, но и вселяя чудную радость — вот-вот все разрешится, объяснится, будет взвешено, исчислено и посчитано на последнем суде Того, Кто не ошибается и не может отклониться от Истины, будучи ее полнотой. Ожидание и подготовка к такому Событию не должны быть чисто пассивными. Откуда мы взяли, что в последние времена не остается пространства для деяния и свидетельствования, вопрошания, обращенного к небесам и утверждения, направленного к земле? Это неподъемно и устрашает, силы князя мира сего огромны, а наши ряды смятенны и малочисленны как никогда, но это еще не достаточное основание для того, чтобы опустить руки. И предки наши в тяжелые времена попадали в страшные ситуации. А сколько вынесли первые православные мученики и праведники, и говорить не приходится! Вынесли, но не отступили, не сломились, не покорились давящей воле здравого рассудка. А мы? 2. Три периода Земной Церкви Владимир Лосский совершенно правильно заметил, что каждая эпоха христианской истории имеет в центре богословского внимания отдельный аспект учения, который выясняется и уточняется в окормляемых Духом Святым церковных обсуждениях. И не менее прав он в том, что на настоящем этапе в центре богословского внимания должна стоять экклесиология, учение о духовном таинственном содержании земных путей Церкви Христовой. Можно было бы добавить, что на первый план выходят также вопросы христианской эсхатологии, проблемы православного взгляда на содержание пророчеств Откровения, на смысл Конец Света. Но в строго богословском плане такое добавление лишено содержания, так как все православное учение и есть расширенная эсхатология — и Первое и Второе Пришествия Господа нашего Исуса Христа прилегают практически вплотную к точке Конца Времен, хотя Первое Пришествие несколько предваряет Второе. Для неправославного сознания 2 тысячи лет никак не несколько, но для христианина — иной счет, иное время. Тем более, для небесных миров, где столетие людей равно ангельскому дню. Экклесиология, учение о Церкви, как и все в христианстве есть часть эсхатологии. Но в данном случае она связана с православным пониманием истории и ее важнейших существеннейших сторон. В православной экклесиологии есть несколько ключевых дат и расположенных между ними периодов, имеющих поворотный духовный смысл. Чтобы правильно наметить нашу перспективу понимания экклесиологии, необходимо назвать эти основные точки. Церковь началась с Пятидесятницы, с момента схождения Духа Святаго на апостолов в виде языков пламени через 50 дней после Светлого Христового Воскресения и через 10 дней после его Вознесения. Тогда по обещанию Спаса был послан к людям Утешитель, Параклет, Святой Дух, совершительная причина, которым была утверждена Святая Святых церковного православного тайнодействия. Это — День Рождение Церкви Христовой. Единой, Святой, Соборной и Апостольской. С момента это благодатного нисхождения Утешителя начинается развертывание экклесиологии, домостроительства Святаго Духа в истории. Это — 33-й год от Рождества Христова. Первый период, следующий сразу за Пятидесятницей, длится от времен апостольских до императора Константина, до появления в небе Креста перед решающей битвой (Hoc vince), до воцерковления Римской Империи, до становления ее Православным Царством. Ключевой датой является 313 год — год издания миланского эдикта. Справедливости ради надо заметить, что и первые христиане относились к Империи с особым благоговейным чувством, пророчески провидя ее грядущее воцерковление. С этим связано древне христианское учение о миссии потомков Иафета, которым было суждено заложить основу Вселенского Царства, в котором воплотится Спаситель и которое со временем станет вместилищем Его Церкви. Она часто называется учением о четырех царствах. Первое из них — Вавилонское, второе — Мидо-Персидское, третье — Греческое (особенно держава Александра Великого), последнее четвертое — Римское. Отсюда особое значение Рима в христианской эсхатологии. Существует, правда, иная версия аналогичного учения, где речь идет о семи праведных царствах. За падением последнего из них должно начаться восьмое, неправедное царство — царство антихриста. Это последнее праведное царство — седьмое — берет свое начало с Константина Великого. Из этого раннехристианского представления о последнем царстве явствует все колоссальное значение проповеди Евангелия языкам, эллинам, ее эсхатологический домостроительный смысл. Но все же на протяжении первых веков, когда Церковь существовала вплотную с миром, еще не принявшим Благой Вести и остававшимся под бремен иных могуществ, христиане пребывали в глубоком противоречии с самой сутью окружающей реальности и в общественном, государственном, и в естественном, природном смысле. Церковь первых веков была только Церковью, кораблем спасения в мутных волнах реальности, все еще подъяремной князю мира сего. Этот первый экклесиологический этап отличался особыми характеристиками, особой этикой сообщения с миром, и более того — особой онтологией, особым подходом к двум резко различным реальностям — реальности самой Христианской Церкви, с одной стороны, и реальности языческой Империи, с другой. В Церкви пребывало нетварное Присутствие Духа Святаго, а в евхаристии и самого Исуса Христа, Сына Божьего. Реальность Церкви была качественно сопряжена с нетварным миром, изъята из под ярма закона, отделявшего тварное от нетварного до Христа и вне Его Церкви после Христа. И сами христиане были сущностно иными ("новыми") людьми, причастными особой экклесиологической антропологии — в отличие от единождырожденных язычников или иудеев, они были рождены дважды — второй раз "свыше" через благодатное таинство Святого Крещения. Следует особенно подчеркнуть мистический смысл термина "новый" в православном учении. Он очень важен для понимания таких реальностей как "новый человек" (применительно к христианину), "Новый Завет" (применительно к Евангелию), "новое упование" (применительно к христианской вере). Понятие "новое" в церковном смысле означало отнюдь не временную хронологическую последовательность, смену систем или религиозных форм. "Новое" в христианстве — понятие глубоко онтологическое. Оно характеризует особый внутрицерковный модус бытия, который в отличие от трагической и неснимаемой разлуки Творца и твари в Ветхом Завете, равно как и в отличие от ложной, унизительной для Божества близости между ними в язычестве, основано на благодатном открытии пути волевого обожения твари, который открыл своей жертвой Сын Божий. "Новым" называется человек, в которого благодатно вселено семя причастия к Божеству. А под "новой жизнью", основанной на "Новом Завете", подразумевается поэтапное осуществление "обожения". Вне Церкви Христовой довлеют иные законы и возможности, совокупно определяемые как "ветхие". Там сохраняются "ветхие" нормы, пребывает "ветхий человек" и "ветхий мир". Причем по сравнению с благодатью "новой жизни" в Церкви эта инерциальная "ветхость", это упорство в привязанности к безблагодатной реальности приобретает особенно зловещий смысл. Если до Христа "ветхость" была печальным уделом всех, то после Христа — это уже волевое решение, которое отныне следует оценивать в совершенно иной этической и онтологической шкале координат. На этом положении основывается православное учение об антихристе, той фигуре, к которой тянутся все нити мировой "ветхости". И в этом смысле, именно антихрист является главным врагом "Нового", понятого в православном спасительном церковном смысле. Между двумя реальностями — церковной и нецерковной, "новой" и "ветхой" (ветхость означает язычество, особенно в его политическом, имперском аспекте и иудейство в религиозном аспекте) — на втором экклесиологическом этапе не было никакой промежуточной инстанции. Они были противопоставлены друг другу, сосуществовали, не смешиваясь. Но, возможно, именно учение о грядущем (по отношению к первым христианам) воцерковлении Царства, о Тысячелетнем Царстве, во время которого сатана будет скован и ограничен в действиях, делало противопоставление изначальной Церкви и Империи не столь острым. Отсюда и необъяснимая иначе лояльность первых христиан к имперским законам и самой римской государственности. Христиане отказывались лишь от религиозной стороны языческого Рима, и были в этом бескомпромиссны. Не случайно именно христиане отличались особой доблестью в римских легионах — для них смерть была далеко не концом, а мученический венец считался бесценным даром. Бог христиан победил смерть. Далее врата были открыты всем верным. Второй экклесиологический этап начался с Константина Великого. Его миланский эдикт и все последующее — вплоть до основания Нового Рима, Византии — было подтверждением эсхатологических предсказаний относительно "катехона", "удерживающего", под которым уже первые христиане понимали Римское Царство и самого Царя, Кесаря. Начиная с этого момента между Церковью и миром сим появляется особая посредующая реальность — Православная Империя, основанная на симфонии властей, где политическая власть гармонично сочеталась с основной устремленностью церковного домостроительства. Здесь мы подходим к ключевому понятию экклесиологии — к понятию "онтологии и антропологии империи", к их эсхатологическому смыслу. В Православном Царстве возникла принципиально новая реальность, чем та, которая существовала в три предшествующие столетия. Здесь между кораблем Церкви, как реальностью, напрямую сопряженной с нетварным, предвечным Божеством, и уделом "князя мира сего", "дьявола", где продолжали действовать ветхие законы, отягчающиеся от века к веку механизмы грехопадения, появилась промежуточная область, в пределах которой и в природе и в обществе существовала некоторая особая благодатная свобода, принципиальная защищенность от полновластия дьявола, изъятие из-под его власти . Именно эта промежуточная реальность и была "катехоном", "удерживающим", тем таинственным препятствием, которое не давало сыну погибели, антихристу утвердить полноту своего господства над всем миром. Во втором послании к Фессалоникийцам святой апостол Павел писал о "катехоне": "Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, — и тогда откроется беззаконник" (2, 7-8). "Удерживающий теперь, по-гречески "катехон" толковался преданием как Православный Царь и Православное Царство. Природа реальности, заключенной в границы Православного Царства, была сущностно иной, нежели за его пределами. Это касалось как физики, так и социологии, как качества человеческого естества, так и природных явлений. Социально это выражалось в благодатности симфонического устройства. Мистически — в возможности катафатического богословия, т.е в возможности через рассмотрение Божьего творения (но в рамках Империи!) приблизиться к пониманию самого Творца. "Катехон" и был обещанным "тысячелетним царством", в течение которого и в границах которого власть сатаны была временно урезана. Хотя и неокончательно (как явствует из текста Апокалипсиса). Тысяча лет этого имперского, "удержательного" периода экклесиологии точно соответствует Византии. Новый Рим был основан как отправной пункт "тысячелетнего царства", и весь имперский византийский цикл длился как раз приблизительно тысячу лет. Причем важно, что на протяжении этой тысячи лет экклесиологический акцент падал именно на сохранение особой политико-социальной системы, природа которой была сама по себе домостроительным эсхатологическим таинством, непосредственно связанным с отдалением "прихода антихриста". "Антихрист" должен был последовать за "тысячелетним царством", а не предшествовать ему, хотя в определенном смысле до Константина власть у дьявола была гораздо более объемной. Окончательный (или почти окончательный, как мы увидим ниже) его приход после "тысячелетнего царства" должен был быть в некотором смысле "возвратом". Это замечание снимает видимое противоречие между отождествлением с антихристом Нерона или Калигулы у первых христиан и ожиданием его прихода в будущем. "Онтология и антропологии империи" представляют собой промыслительное расширение параметров "нового бытия" на максимально возможный в эсхатологической ситуации объем бытия. "Новым" вместе в воцерковлением империи и при наличии "катехона" становится огромный бытийный пласт, намного превышающий то, что до Константина понималось под Церковью. Возможность обожения открывается на всем пространстве Царства, для всех разумных и неразумных существ, ее населяющих. Литургией, "общим делом" становится все бытие, всякое действие, всякое — даже самое незначительное — событие. При этом в отличие от языческого понимания "Священной Империи", речь идет о задании, о возможности, о волевом аспекте, о пути. Факт экуменического оглашения означает, что "много званных". Но еще не означает, что "избранных" столь же много. Отсюда вытекает выделение активного характера "имперской антропологии". Благодать, распространенная на огромные просторы, является "насаждением возможности", побуждением к христианскому литургическому и социально-государственному одновременно подвижничеству. Это особая форма сакрализации, отличная и от иудейского теократического пессимизма в отношении "царства" и от "эллинского" платонического оптимизма относительно заведомой "божественности" империи. православная имперская онтология представляет собой именно активное всеобщее действие по реализации семян благодати, которыми промыслительно засеяны все просторы Империи. Воцерковление Империи подразумевает совершенность и завершенность посева. Но вопрос о всходах, взращивании их остается открытым и зависит от волевой, коллективной, литургической деятельности, от общенародного подвижничества. Этот второй экклесиологический период, проходивший под знаком Империи и симфонии властей, под знаком "катехона" сам по себе неоднороден. Уже почти в самом начале от единой Римской Империи, имеющей своей священной осью Константинополь, откалывается в политическом смысле Запад, включая и первый Рим. Между западной и восточной половинами христианского мира возникает неравновесное соотношение. Не только политическое, но что самое важное, онтологическое и антропологическое. Византийская онтология является полноценно имперской, тогда как на Западе постепенно складывается иная, дисгармоничная картина, в которой промежуточный имперский элемент либо размыт, либо искажен, либо вообще отсутствует. Это значит, что начинают складываться такие условия, которые отличаются от "тотальной засеянности" и государственной всеобщей литургичности, свойственных подлинному Православному Царству. Начинают появляться или проявляться онтологические и антропологические островки, на которых из-под экуменической благодати проступают "ветхие" законы. Это можно назвать зачатками "десакрализации", но понятой в сугубо христианском смысле. Данное явление сопровождается распылением литургического единства, распадением соборной, коллективной реальности спасения, которая была нормой и законом православной имперской онтологии и антропологии. Сохранение православного единства Церкви, сохранение самой Византией статуса единой и неделимой эсхатологической державы в отчасти исправляет эту ситуацию, компенсирует явный крен христианского Запада в сторону апостасии, отступничества, выхода за рамки истинной Веры и истинного христианского Православия. Но определенные тревожные черты можно увидеть в западно-христианской экклесиологии очень рано. Эти черты заметны в усилении "индивидуальных" мотивов в западном богословии, а также в искажении спасительных пропорций между светской властью и духовным владычеством. Это искажение протекает одновременно в двух направлениях — с одной стороны на Западе вводится ложное учение об строгой иерархии апостолов, что приводит к утверждению преимущества Пап и к своего рода теократии, с другой стороны, неправомочно усиливается феодальная власть отдельных светских князей, претензии которых на самостоятельность и самовластие восстанавливает в некоторой степени языческие принципы. Изменения в религиозном и светском укладе на Западе отражают и усугубляют одновременно глубинные процессы "онтологической и антропологической мутации". Мало-помалу на Западе складывается особый тип бытия и особый тип человека — "человека индивидуального", "претендующего на автономность и суверенность, ослабившего или вообще порвавшего связи с литургической стихией домостроительного общего делания. От православного учения о "личном спасении", которое связано с волевым характером реализации благодати, Запад переходит к концепции "индивидуального спасения", что ставит эту проблему вне общего соборного контекста "нового бытия", воплощенного в христианском Царстве. В некотором смысле это означает возврат к доимперским, доконстантиновским формам существования Церкви, но такой возврат означает в данном контексте самую настоящую "апостасию", "отпадение", дерзкое небрежение промыслительной благодатью, выразившейся в "тысячелетнем царстве" Византии. Находясь с подлинно православной Византией в инаковых онтологических условиях, мало по пало Ветхий Рим приходит к собственной экклесиологической формулировке, которая, внешне оставаясь христианской, резко отходит от пропорций изначального православного учения о "катехоне", от провиденциального эсхатологически нагруженного соотношения мирской власти и духовного владычества. Окончательно это проявляется в великой схизме (1054 г.), когда латинство отпадает от подлинного христианства, настаивает на неправомочном административном главенстве Римской кафедры над всеми иными христианскими иерархами Востока и Запада, вводит в Никейский символ сомнительные с богословской точки зрения изменения (Filioque), утверждает еретическое учение о "чистилище". Вопрос о "чистилище" показателен, и напрямую связан с нашей основной темой. Мало того, что упоминания о "чистилище" нет у святых отцов, и следовательно, введение этой категории не подкреплено авторитетом Предания. Важно также, что "чистилище" является в представлении латинян посмертной реальностью, промежуточной между раем и адом, которая служит для того, чтобы очистить мелкие незначительные прегрешения у покойников, не достойных рая, но не столь согрешивших, чтобы заслужить ад. В некотором смысле "чистилище" — это продолжение нашего земного мира. Но православные совершенно справедливо убеждены, что все события "чистилища" имеют место уже при земной жизни, и что тонкая сфера, описываемая католиками под этим названием, есть ничто иное как одно из измерений обычного земного бытия, хотя и связанного с невидимой стороной. Иными словами, земная реальность православных включает в себя "чистилище" в качестве одного из измерений обычной жизни. Латиняне же имеет об этой земной жизни гораздо более суженное, рационализированное, "десакрализованное" представление, и на этом основании помещают тонкое измерение в посмертные сферы. Это является очень выразительным примером онтологического значения "великой схизмы". — Православные и "католики" имели дело с разными мирами, с двумя реальностями, устроенными различно. "Католический мир" отрезал "чистилищное" измерение от земного бытия, умалил качественный состав мира и человека. Это утраченное, вынесенное в посмертные сферы измерение очень близко к имперской онтологии. несколько огрубляя, можно сказать, что католическое представление о земной жизни есть "имперская онтология" минус "чистилище". Другим существеннейшим моментом раскола было пародийное приписывание Карлом Великим самому себе и Франкской династии роли "катехона" в ущерб Византии. Это было чистейшей узурпацией. Необходимо рассматривать раскол церквей в XI веке не как разделение единого организма на две приблизительно равные половины, а как отпадение от единого — и продолжающего оставаться таковым (т.е единым и цельным) — организма порченной части, заявившей не просто о своей равнозначности здоровому целому, но и о своем полном превосходстве. На самом деле, раскол был подтверждением окончательного отступничества Запада, его отпадением от единой христианской Церкви, его превращением в некое новое религиозное образование, именуемое (также неправомочно) "католичеством", т.е. "всецелым". Настоящей кафолической (т.е. всецелой) Церковью оставалась только и исключительно Православная Церковь, и неудивительно, что четвертый крестовый поход был предпринят Западом именно против Византии. Тогда крестоносцы кощунственно осквернили величайшие христианские святыни и установили на время на православном Востоке политическую и религиозную диктатуру "впавшего в ересь Запада". Показательна и география этого события, происшедшего во второй половине "константинопольского" экклесиологического цикла. Западная Церковь вернулась, в каком-то смысле, к первому Риму, к тому состоянию, когда Империя еще не была воцерковлена, еще не приобрела особой спасительной онтологии, начавшейся с эпохи Константина Великого. Мы настойчиво подчеркиваем онтологический и эсхатологический смысл отпадения Рима от Православия потому, что в дальнейшем в истории земной Церкви все связанное с "латинством" будет носить зловещий оттенок и явную печать антихриста. Это проявляется наглядно в моменте, завершающем "византийский цикл" экклесиологии, в трагическом падении Константинополя. 1453 год — точная дата конца "тысячелетнего царства". Константинополь взят турками, Византийская Империя пала. По всем характерным признакам обнаруживается трагический эсхатологический факт: "держащий" теперь "взят от среды", и дороги приходу "сына погибели" открыты. И следует это в скором времени после подписании Флорентийской Унии, т.е. после признания византийской Церковью и самим императором сущностной правоты "латинян". (Фатальной Флорентийской Унии предшествовала Лионская Уния, а также значительное духовное вырождение греков, которое чаще всего было сопряжено с податливостью влияний, идущих с Запада; огромный вред византизму нанес период прямой оккупации Византии латинянами в следствии четвертого крестового похода — именно с этой даты начинаются в Византии разрушительные процессы развития "феодализма", политико-социальной формы, чуждой истинному православному учению и навязанному латинянами. Не исключено, что переходом к троеперстию греки обязаны именно этим "западническим", "папским" тенденциям, хотя этот вопрос еще не получил окончательного исторического решения). Как бы то ни было, в экклесиологическом и эсхатологическом смысле обнаруживается прямая связь между отступлением от строгого учения Православия самим Константинополем, причем в пользу той реальности, которая однозначно связывается у православных с "антихристом", и политическим падением Восточной Римской Империи, с символическим попранием ногой неверных ее святынь. Византийские сторонники унии с Римом отказались, в сущности, именно от "катехона", от особенности "имперской онтологии", и в скором времени "держащий", василевс был , действительно, "взят от среды" вместе с политической и религиозной независимостью огромного православного Государства. На этом заканчивается второй экклесиологический период. Точнее, почти заканчивается. В определенной своей форме "православная имперская онтология" перемещается на Север, передается затерянному в евразийских просторах Московскому Царству. Здесь после конца Византии обнаруживаются все составляющие полноценного православного имперского мира, изъятого до времени из-под темных законов реальности, пораженной апостасией. Византия падает и отступает, но поднимается Новая Византия, Третий, последний Рим. Это — новое (и последнее — "четвертому не быти") явление "катехона", в его самом православном понимании, как прямого наследия "имперского экклесиологического периода". "Тысячелетнее царство" промыслительно продлевается в Третьем Риме, где сохраняются все основополагающие догматические пропорции Подлинной Веры в сочетании с политической независимостью, симфоническим соотношением между духовным владычеством и светской властью. Московское Царство — как исполнение пророчеств об особой богоизбранности русского народа и русского Государя, содержавшихся еще в "Слове о законе и благодати" митрополита Иллариона, и получивших свое развитие в "Повести о белом клобуке" времен новгородского архиепископа св. Геннадия и св. Иосифа Волоцкого, а окончательно закрепленных в учении псковского старца Филофея о "Москве-Третьем Риме" — в полной мере принимает на себя эсхатологическую и экклесиологическую миссию Византии. Русь становится Святой в самом прямом смысле, т.е. обладающей исключительной реальностью, которая распространяется и на природу и на общество, и на онтологию и на антропологию. Богоизбранность русского народа как народа Третьего Рима ложится в основу особой национально-религиозной антропологии, нигде не выраженной в четких формулах, но ощущавшейся всеми. Многие положения этого учения о "московской онтологии" косвенно содержатся в пунктах Стоглавого собора, закрепившего своим авторитетом московский экклесиологический период Православия. Важно заметить, что новая роль Москвы и Русской Церкви не отменяла значения Константинопольского патриарха в чисто религиозных вопросах, но в деле "эсхатологии" и "имперской онтологии" (а это не могло не затрагивать и церковных вопросов) греческий патриарх явно утратил свое решающее значение, оправданное ранее всем весом домостроительной миссии Византии до уклонения самих греков и победы турок. "Тысяча лет" второго экклесиологического периода — имперского периода — имела таким образом промыслительное приращение в двухсотлетнем периоде Святой Руси (1453 — 1656). Пути же латинства давно уклонились от Православия и говорить об "имперской онтологии" здесь было бессмысленно (хотя, заметим, что именно этот "катехонический" аспект лежал в основе гиббелинской оппозиции Штауфенов всевластию папизма и гвельфской партии). Конец московского периода означает конец милосердного добавления срока к эсхатологическому тысячелетию. На этот момент приходится русский раскол, смысл которого и заключался в страстотерпном свидетельствовании староверами катастрофической природы реформ, начиная с Никоновской справы до ужасного финала в соборе 1666-67 годов, где официальная церковь формально анафематствовала эсхатологическое учение о Москве-Третьем Риме, о домостроительной богоизбранности Московского Царства, сравняло пункты Стоглава с прахом. Восточные патриархи, санкционировавшие и вдохновившие такие нововведения, возможно, руководствовались спецификой своей собственной экклесиологической позиции. Ранее связав "имперскую онтологию" исключительно со Вторым Римом и утратив ее вместе с военно-политическим крахом Константинополя, греки перенесли свой собственный катастрофический, уже постимперский, посткатехонический опыт и на саму Русь, отвергнув даже возможность того, что там могли в полной мере сохраниться те условия, которые существовали в ранее в самой Византии. Отсюда и высокомерное презрение к русскому обряду, который, как сегодня убедительно доказали беспристрастные историки этого вопроса, был полноценным и совершенно неискаженным продолжением самой византийской православной традиции, застывшей, однако, у нас в тот момент, когда Константинополь пошел на предательскую унию, а позже пал. Русский обряд, анафематствованный реформаторами рокового собора 1966-67, был архаической формой византийского обряда и ничем иным (это был в основе своей древний Студийский устав, наиболее распространенный в Византии, с некоторыми добавлениями Иерусалимского устава, тогда как в греческой церкви к XVII веку Иерусалимский устав полностью вытеснил Студийский). А староверческая убежденность в его превосходстве над новогреческой формой также была совершенно оправдана эсхатологическим учением о "катехоне" и о духовной порче традиции, утратившей свое "хилиастическое" качество. Страстная реакция староверов на реформы, вплоть до самых радикальных форм (гари), была обусловлена глубоким и естественным ощущением соучастия всего русского народа и Русской Церкви именно во втором экклесиологическом периоде Православия, пронзительным осознанием онтологических и антропологических последствий отказа от полноценной миссии Руси как "удерживающего". Отсюда совершенно справедливые ожидания прихода антихриста. Теперь уже во всем мире (кроме таинственного "Камбайского Беловодского царства", не существующего на карте, где, по мнению старообрядцев, еще сохранилась подлинная непорченая иерархия, т.е. "имперская онтология") совершился переход к новому экклесиологическому периоду — третьему. Церковь здесь снова, почти как во времена первых христиан, оказалась в безблагодатном мире, подчиненным свинцовой пяте "князя мира сего". Промежуточная реальность имперского хилиазма исчезла. Между Церковью и миром вновь разверзлась пропасть. Важно заметить, при этом, что помимо сходства между доимперской и послеимперской Церковью есть и существенные различия. В первом случае Римское Царство еще не стало Православным, еще не приняло миссии "держащего". Во втором случае Царство уже не являлось полноценным, уже не исполняло этой роли. Между "еще" и "уже" проходит линия онтологического разлома. Когда нечто не подверглось преображающему воздействию, но ему суждено подвергнуться ему — это одно дело. Здесь внутренне зреют праведные пути, хотя внешнее может быть греховным. Это — "еще не". "Уже не" означает, что положительное и праведное перестало быть таковым по существу, что оно остается им только внешне, а содержание безвозвратно испорчено. Фасад остается святым, внутри же громоздится апостасия. "Если соль испортится"... Третий экклесиологический период ставит проблему соотношения Церкви и мира в новом свете, и этому нет адекватных аналогий в предшествующие эпохи. И здесь мы сталкиваемся с невероятно нагруженным духовным содержанием вопросом — может ли в этот период сама Церковь, которая в определенных аспектах подлежит страшному лаодикийскому приговору "уже не", "вспомни откуда ты ниспал" — может ли она широкомасштабно, соборно и единодушно дать общую экклесиологическую картину этого начавшегося страшного цикла, однозначно расставить в нем акценты, беспристрастно оценить позиции всех сил и направлений, продолжающих причислять себя к христианству? И какова будет обоснованность такой экклесиологии, коль скоро по определению значительная часть (а точнее большинство) христианских церквей глубоко затронуты в земном, историческом смысле последствиями утраты "имперской онтологии"? Важно сказать несколько слов о том, каковы онтологические последствия такой утраты. Речь идет об исчезновении, сокрытии той "новой жизни", которая составляла сущность имперской реальности, ее литургическое, соборное, коллективное действие, направленное к обожению и имеющее в качестве опоры преображенные стихии. Отныне "новая жизнь" становится не нормой, но исключением, преображенность мира в Святом Царстве сворачивается как горящие небеса апокалипсиса и становится достоянием отдельных фрагментарных частей. На этом основаны многочисленные легенды ранних староверов, что "где-то сохранились места, в которых существует неповрежденная истинная православная иерархия". Это "где-то" имеет колоссальный онтологический смысл. Подлинная имперская реальность из повседневной реальности уходит в область мифов и легенд, становится трудно доступной, исключительной, из категории данности переходит к качеству задания. Теперь не само спасение и "обожение", "святость" становятся "заданием", но только еще предпосылки к такой возможности уже становятся сами по себе проблематичными. И чем трагичнее и катастрофичнее понимание необратимости и апокалиптической нагрузки этого события — тем глубже и подлинней вера, яснее понимание экклесиологической проблематики Церкви, полнее и истинней богословский порыв. 3. Цивилизация антихриста Проблема того мира, который начинается за пределом Церкви, а во второй экклесиологический период за пределом Православного царства, и является строго говоря "проблемой антихриста". Антихрист стоит на противоположном полюсе от церковного домостроительства, разворачивающегося между точками первого и Второго Пришествий Господа нашего. Следовательно, мир приобретает здесь особое качество. "Мир сей", активно не принявший Благой Вести и спасительной Истины, становится строго отрицательной категорией. Он не просто еще не воцерковлен, т.е. как бы пребывает в неведении относительно Благой Вести, он уже антицерковен. Поэтому он и сопрягается напрямую с антихристом, а дьявол именуется "князем мира сего". Но Творцу виднее, когда совершаться предначертанному в точности — не прообразовательно, но совершенно и безотзывно. Антихрист провоцирует гонения на первых христиан. Он подвигает еретиков отколоться от Церкви. Он прямо стоит за отпадением Запада (латинства) от Православия. Он приводит Константинополь к краху. Он способствует русской катастрофе 1666-67 годов. Далее он воцаряется повсюду, причем и в тех сферах, которые ранее были отвоеваны Церковью от мира. Антихрист — единое существо, единое действие, которое должно окончательно кристаллизоваться в человеческой личности в самый последний момент истории. Но эта личность будет не более, чем подписью, скрепляющей печатью для многовекового действия. Это "действие" имеет три разные формы в зависимости от трех экклесиологических этапов. В первом случае антихрист препятствует воцерковлению империи, т.е. расширению преображенной, сотериологической христианской онтологии и антропологии на вселенские общественные и географические пространства. В этот период, когда Церковь должна перейти к новым хилиастическим условиям существования, любые препоны на этом пути — и с внешней стороны и со стороны христианских (прямо или косвенно антиимперских) сект явно несут на себе след "князя мира сего". Позже антихрист сжимается, утрачивает контроль над значительными просторами бытия (внешнего и внутреннего). Его действие вынуждено разделяться и дробиться. Его могущество сдерживаемо уздой Промысла. Это приходится на период доминации "имперской онтологии". Отныне второй этап действия антихриста состоит в противодействии ей, в разрушении "катехона", как препятствия для его конечного воцарения. Можно сказать, что антивизантийская (позже антимосковская) линия на данном этапе выдает наиболее агрессивные аспекты "сына погибели" в чем бы это ни проявлялось — в богословии, политике, быту, культуре, мистике и т.д. И наконец, третий этап воцарения антихриста, соответствующий третьему экклесиологическому периоду, ознаменован объединением его сил, консолидацией пространств и реальностей, ему подконтрольных. Антихрист отныне начинает строить свою цивилизацию, отрицательный, "подрывной" характер которой постепенно все более затушевывается, и разрушение начинает выдаваться за "созидание", беззаконие — за "закон", грех — за "добродетель" и т.д. Пик строительства этой "цивилизации антихриста" должен наступить в миг его окончательного вочеловечивания, когда вся подготовительная работа будет завершена. Из этого можно сделать важнейший вывод: экклесиология напрямую сопряжена с темой "антихриста", так как именно этот вопрос и является центральным для самой Церкви — выявить его черты, осознать логику и механизмы действия "сына погибели", показать верным его отличительные особенности, обозначать основные направления и приемы борьбы с ним, столь зависящие от природы того или иного экклесиологического цикла, — вот в чем заключается наиболее актуальная богословская задача. Показательно в этом отношении высказывание одного старообрядца, представителя крайнего беспоповского согласия "странников" (последователя известного "бегуна" Антипы Яковлева): "Слышите, братия, что сии льстецы глаголют, яко не нужно знать о антихристе. Да у нас вся вера во антихристе состоит." В каком-то смысле эта предельная формулировка в устах простонародного старообрядца, с точки зрения третьего экклесиологического периода, более соответствует богословской истине, нежели сложнейшие успокоительные построения официального Санкт-Петербургского богословия. Самое важное здесь — совершенно оправданная убежденность, что в экстремальных исторических условиях в зависимости от определения качества антихриста, пределов его влияния, формы и интенсивности его действий, в зависимости его идентификации все остальные догматы Веры, богословские, этические, ритуальные и социальные нормативы будут иметь совершенно различное значение, так как формальный подход, адекватный в предшествующие эпохи, теперь более неприменим, и даже для полноценной предпосылки спасения необходимо тончайшее "различение духов", без которого даже самый внешне благочестивый и догматически оправданный христианский путь окажется ложным. Если "тайная беззакония" свершилась, и "держащий теперь" взят от среды, то ничто более не препятствует восседанию "сына погибели" в самой Церкви, а это в свою очередь, требует от истинных христиан такой бдительности и такой критичности, которые ранее были не только не нужны, но и откровенно вредны. Поэтому вопрос об "антихристе" является для христиан главным и первоочередным. 4. Небесное против Земного Есть определенные основания, чтобы предвидеть скорое окончание третьего экклесиологического периода. Нельзя не признать, что все планы антихриста сбываются на глазах, и путь для его окончательного воплощения все более и более расчищается. При чем не только полноценный "удерживающий" в форме Православного Царства "взят ныне от среды", но и все остальные, частичные преграды для кратковременного, но ужасного торжества "сына погибели" падают. Скорее всего история земной Церкви подходит к своему завершению. Мы знаем, что "врата ада не одолеют Церкви" и что таинство евхаристии будет продолжаться до конца времен, несмотря на "мерзость запустения", которой подвергнется (подвергается) Церковь в апокалипсические времена. Тайная сущность Церкви не подлежит силе "князя мира сего", она всегда остается преображенной и напрямую связанной с нетварной реальностью пресвятой Троицы. Но эта тайная сущность есть Церковь Небесная, сопряженная с Церковью земной, но не тождественная ей. Церковь Небесная — всегда искупленная и всегда всепобеждающая независимо от состояния Церкви Земной, к которой и относится исторический срез экклесиологии. Церковь Небесная постоянна. Церковь земная меняется в зависимости от поворотов промыслительной священной истории, становясь в то или иное положение и по отношению к внешнему (миру) и по отношению к внутреннему (Церкви Небесной). И в конце третьего "постхилиастического" периода, в котором мы и находимся, Земная Церковь оказывается в крайне сложной, противоречивой и неоднозначной ситуации. С одной стороны, все глубже проникают в нее действия антихриста, все больше падает она в своем человеческом и организационном смысле. Водворение в Святой Святых нечестия в последние времена также предсказано в Священном Писании. Это падение Земной Церкви православное предание называет собирательным понятием "Церковь Лаодикийская", "Церковь не холодных и не горячих". В Лаодикийской Церкви в конце времен достигается высшая стадия отчуждения земного от небесного, и постепенно земное начинает вступать в открытое противоречие с небесным. Нагляднее всего это видно в предельном вырождении латинской Церкви и протестантских конфессий, где от подлинного христианства почти вовсе ничего не осталось. Шаг за шагом вбирают западные конфессии в себя откровенно антихристовы течения, навязываемые стихией апокалипсического мира. Но "лаодикийскими" являются не только "церкви" Запада, проделавшие огромный и постыдный путь на стезе отпадения и извращения. Уже по самой логике экклесиологических этапов, намеченных нами выше, ясно, что и православные не могли избежать — хотя и в иной форме и в иной степени — сходных отрицательных явлений, предполагаемых самим вектором церковной истории. Первый решительный шаг в сторону антихриста был сделан греческой Церковью в момент окончательного заключения Флорентийской унии. В этом и только в этом смысле надо понимать и последствия книжной справы и деяния собора 1666-67 годов (несмотря на глубоко патриотическую и православно-мессианскую цель, которую патриарх Никон изначально субъективно перед собой ставил). Петровские реформы и синодальный квазиангликанский строй романовского периода также имели мало общего с подлинным Православием, с православной симфонией и "удерживающим". Хотя постепенно изначальный чисто отрицательный характер "новообрядчества" и преодолевался самой народной стихией (не было уничтожено до конца монашество, не до конца иссяк исихазм, вернулся в русскую Церкви анафематствованный русский восьмиконечный крест, было учреждено, хотя и прагматических целях, единоверчество и т.д.), все же от подлинного византизма и Святой Московской Руси в петербургско-романовской России сохранились лишь осколки и отдельные фрагменты. Не смогла преодолеть "лаодикийский дух" Русская Православная Церковь и в 1917 году, когда было восстановлено Патриаршество и сделаны серьезные шаги к апокалиптическому пробуждению Русского Православия перед лицом чудовищных потрясений, охвативших Россию и весь мир (особенно важно сегодня вернуться к опыту тех ревнителей православного возрождения, которые ратовали в это время за радикальное преодоление последствий раскола и "романовщины" — сам патриарх Тихон, митр. Антоний (Храповицкий), еп. Андрей (Ухтомский) ). Крайне символичными были события, вплотную примыкавшие по времени к восстановлению Патриаршества — перенос столицы из Петербурга в Москву и чудесное обретение иконы "Державная", что в экклесиологическом смысле было тождественно установлению на Руси эсхатологической формы монархии, пришедшей на смену павшему Дому Романовых: сама Пресвятая Богородица стала Царицей Руси. Важно также заметить, что первое опровержение рокового собора 1666-67 годов готовилось именно накануне восстановления патриаршества в 1917 году. Еще более символично, что митр. Сергий (Страгородский), известный своей крайней лояльностью к Советской власти, в "Деянии архипастырей" от 1929 года от имени себя самого как "заместителя местоблюстителя патриаршего престола" (как высшей духовной инстанции в России того периода) и от имени других законных иерархов, митрополитов и епископов Московской Патриархии, официально отверг постановления злосчастного "разбойничьего собора", пришедшегося на фатальную дату, и "вменил как не бывшие". Показательно, что на это "Деяние", отважился именно просоветский иерарх, а окончательно оно было подтверждено на Соборе РПЦ уже в 1971 при патриархе Пимене, также вполне лояльном к Советской Власти. Все это указывает на то, что именно в "послеромановской", "послепетербургской", снова "московской" России зрели духовные эсхатологические тенденции, направленные на преодоление апокалиптической катастрофы XVII века. Но Промыслу Божьему было угодно, чтобы преодоление "лаодикийского начала" в Русской Православной Церкви совершилось не до конца. Тем более, что историческая ситуация в большевистской России была для верующих крайне сложной. В начале нашего столетия истинное богословское сознание в России пытается пробудиться, стремится снова дать непредвзятый, почерпнутый из глубин церковной догматики и предания ответ на насущные вопросы, хочет сформулировать ясно позицию Церкви в новый исторический период, отмеченный явной печатью антихриста, но ... все обрывается на полуслове, последней формулы нет, высокое самоотверженное стремление не достигает необходимого порога. Этот второй экклесиологический период, проходивший под знаком Империи и симфонии властей, под знаком "катехона" сам по себе неоднороден. Уже почти в самом начале от единой Римской Империи, имеющей своей священной осью Константинополь, откалывается в политическом смысле Запад, включая и первый Рим. Между западной и восточной половинами христианского мира возникает неравновесное соотношение. Не только политическое, но что самое важное, онтологическое и антропологическое. Византийская онтология является полноценно имперской, тогда как на Западе постепенно складывается иная, дисгармоничная картина, в которой промежуточный имперский элемент либо размыт, либо искажен, либо вообще отсутствует. Это значит, что начинают складываться такие условия, которые отличаются от "тотальной засеянности" и государственной всеобщей литургичности, свойственных подлинному Православному Царству. Начинают появляться или проявляться онтологические и антропологические островки, на которых из-под экуменической благодати проступают "ветхие" законы. Это можно назвать зачатками "десакрализации", но понятой в сугубо христианском смысле. Данное явление сопровождается распылением литургического единства, распадением соборной, коллективной реальности спасения, которая была нормой и законом православной имперской онтологии и антропологии. Сохранение православного единства Церкви, сохранение самой Византией статуса единой и неделимой эсхатологической державы в отчасти исправляет эту ситуацию, компенсирует явный крен христианского Запада в сторону апостасии, отступничества, выхода за рамки истинной Веры и истинного христианского Православия. Но определенные тревожные черты можно увидеть в западно-христианской экклесиологии очень рано. Эти черты заметны в усилении "индивидуальных" мотивов в западном богословии, а также в искажении спасительных пропорций между светской властью и духовным владычеством. Это искажение протекает одновременно в двух направлениях — с одной стороны на Западе вводится ложное учение об строгой иерархии апостолов, что приводит к утверждению преимущества Пап и к своего рода теократии, с другой стороны, неправомочно усиливается феодальная власть отдельных светских князей, претензии которых на самостоятельность и самовластие восстанавливает в некоторой степени языческие принципы. Изменения в религиозном и светском укладе на Западе отражают и усугубляют одновременно глубинные процессы "онтологической и антропологической мутации". Мало-помалу на Западе складывается особый тип бытия и особый тип человека — "человека индивидуального", "претендующего на автономность и суверенность, ослабившего или вообще порвавшего связи с литургической стихией домостроительного общего делания. От православного учения о "личном спасении", которое связано с волевым характером реализации благодати, Запад переходит к концепции "индивидуального спасения", что ставит эту проблему вне общего соборного контекста "нового бытия", воплощенного в христианском Царстве. В некотором смысле это означает возврат к доимперским, доконстантиновским формам существования Церкви, но такой возврат означает в данном контексте самую настоящую "апостасию", "отпадение", дерзкое небрежение промыслительной благодатью, выразившейся в "тысячелетнем царстве" Византии. Находясь с подлинно православной Византией в инаковых онтологических условиях, мало по пало Ветхий Рим приходит к собственной экклесиологической формулировке, которая, внешне оставаясь христианской, резко отходит от пропорций изначального православного учения о "катехоне", от провиденциального эсхатологически нагруженного соотношения мирской власти и духовного владычества. Окончательно это проявляется в великой схизме (1054 г.), когда латинство отпадает от подлинного христианства, настаивает на неправомочном административном главенстве Римской кафедры над всеми иными христианскими иерархами Востока и Запада, вводит в Никейский символ сомнительные с богословской точки зрения изменения (Filioque), утверждает еретическое учение о "чистилище". Вопрос о "чистилище" показателен, и напрямую связан с нашей основной темой. Мало того, что упоминания о "чистилище" нет у святых отцов, и следовательно, введение этой категории не подкреплено авторитетом Предания. Важно также, что "чистилище" является в представлении латинян посмертной реальностью, промежуточной между раем и адом, которая служит для того, чтобы очистить мелкие незначительные прегрешения у покойников, не достойных рая, но не столь согрешивших, чтобы заслужить ад. В некотором смысле "чистилище" — это продолжение нашего земного мира. Но православные совершенно справедливо убеждены, что все события "чистилища" имеют место уже при земной жизни, и что тонкая сфера, описываемая католиками под этим названием, есть ничто иное как одно из измерений обычного земного бытия, хотя и связанного с невидимой стороной. Иными словами, земная реальность православных включает в себя "чистилище" в качестве одного из измерений обычной жизни. Латиняне же имеет об этой земной жизни гораздо более суженное, рационализированное, "десакрализованное" представление, и на этом основании помещают тонкое измерение в посмертные сферы. Это является очень выразительным примером онтологического значения "великой схизмы". — Православные и "католики" имели дело с разными мирами, с двумя реальностями, устроенными различно. "Католический мир" отрезал "чистилищное" измерение от земного бытия, умалил качественный состав мира и человека. Это утраченное, вынесенное в посмертные сферы измерение очень близко к имперской онтологии. несколько огрубляя, можно сказать, что католическое представление о земной жизни есть "имперская онтология" минус "чистилище". Другим существеннейшим моментом раскола было пародийное приписывание Карлом Великим самому себе и Франкской династии роли "катехона" в ущерб Византии. Это было чистейшей узурпацией. Необходимо рассматривать раскол церквей в XI веке не как разделение единого организма на две приблизительно равные половины, а как отпадение от единого — и продолжающего оставаться таковым (т.е единым и цельным) — организма порченной части, заявившей не просто о своей равнозначности здоровому целому, но и о своем полном превосходстве. На самом деле, раскол был подтверждением окончательного отступничества Запада, его отпадением от единой христианской Церкви, его превращением в некое новое религиозное образование, именуемое (также неправомочно) "католичеством", т.е. "всецелым". Настоящей кафолической (т.е. всецелой) Церковью оставалась только и исключительно Православная Церковь, и неудивительно, что четвертый крестовый поход был предпринят Западом именно против Византии. Тогда крестоносцы кощунственно осквернили величайшие христианские святыни и установили на время на православном Востоке политическую и религиозную диктатуру "впавшего в ересь Запада". Показательна и география этого события, происшедшего во второй половине "константинопольского" экклесиологического цикла. Западная Церковь вернулась, в каком-то смысле, к первому Риму, к тому состоянию, когда Империя еще не была воцерковлена, еще не приобрела особой спасительной онтологии, начавшейся с эпохи Константина Великого. Мы настойчиво подчеркиваем онтологический и эсхатологический смысл отпадения Рима от Православия потому, что в дальнейшем в истории земной Церкви все связанное с "латинством" будет носить зловещий оттенок и явную печать антихриста. Это проявляется наглядно в моменте, завершающем "византийский цикл" экклесиологии, в трагическом падении Константинополя. 1453 год — точная дата конца "тысячелетнего царства". Константинополь взят турками, Византийская Империя пала. По всем характерным признакам обнаруживается трагический эсхатологический факт: "держащий" теперь "взят от среды", и дороги приходу "сына погибели" открыты. И следует это в скором времени после подписании Флорентийской Унии, т.е. после признания византийской Церковью и самим императором сущностной правоты "латинян". (Фатальной Флорентийской Унии предшествовала Лионская Уния, а также значительное духовное вырождение греков, которое чаще всего было сопряжено с податливостью влияний, идущих с Запада; огромный вред византизму нанес период прямой оккупации Византии латинянами в следствии четвертого крестового похода — именно с этой даты начинаются в Византии разрушительные процессы развития "феодализма", политико-социальной формы, чуждой истинному православному учению и навязанному латинянами. Не исключено, что переходом к троеперстию греки обязаны именно этим "западническим", "папским" тенденциям, хотя этот вопрос еще не получил окончательного исторического решения). Как бы то ни было, в экклесиологическом и эсхатологическом смысле обнаруживается прямая связь между отступлением от строгого учения Православия самим Константинополем, причем в пользу той реальности, которая однозначно связывается у православных с "антихристом", и политическим падением Восточной Римской Империи, с символическим попранием ногой неверных ее святынь. Византийские сторонники унии с Римом отказались, в сущности, именно от "катехона", от особенности "имперской онтологии", и в скором времени "держащий", василевс был , действительно, "взят от среды" вместе с политической и религиозной независимостью огромного православного Государства. На этом заканчивается второй экклесиологический период. Точнее, почти заканчивается. В определенной своей форме "православная имперская онтология" перемещается на Север, передается затерянному в евразийских просторах Московскому Царству. Здесь после конца Византии обнаруживаются все составляющие полноценного православного имперского мира, изъятого до времени из-под темных законов реальности, пораженной апостасией. Византия падает и отступает, но поднимается Новая Византия, Третий, последний Рим. Это — новое (и последнее — "четвертому не быти") явление "катехона", в его самом православном понимании, как прямого наследия "имперского экклесиологического периода". "Тысячелетнее царство" промыслительно продлевается в Третьем Риме, где сохраняются все основополагающие догматические пропорции Подлинной Веры в сочетании с политической независимостью, симфоническим соотношением между духовным владычеством и светской властью. Московское Царство — как исполнение пророчеств об особой богоизбранности русского народа и русского Государя, содержавшихся еще в "Слове о законе и благодати" митрополита Иллариона, и получивших свое развитие в "Повести о белом клобуке" времен новгородского архиепископа св. Геннадия и св. Иосифа Волоцкого, а окончательно закрепленных в учении псковского старца Филофея о "Москве-Третьем Риме" — в полной мере принимает на себя эсхатологическую и экклесиологическую миссию Византии. Русь становится Святой в самом прямом смысле, т.е. обладающей исключительной реальностью, которая распространяется и на природу и на общество, и на онтологию и на антропологию. Богоизбранность русского народа как народа Третьего Рима ложится в основу особой национально-религиозной антропологии, нигде не выраженной в четких формулах, но ощущавшейся всеми. Многие положения этого учения о "московской онтологии" косвенно содержатся в пунктах Стоглавого собора, закрепившего своим авторитетом московский экклесиологический период Православия. Важно заметить, что новая роль Москвы и Русской Церкви не отменяла значения Константинопольского патриарха в чисто религиозных вопросах, но в деле "эсхатологии" и "имперской онтологии" (а это не могло не затрагивать и церковных вопросов) греческий патриарх явно утратил свое решающее значение, оправданное ранее всем весом домостроительной миссии Византии до уклонения самих греков и победы турок. "Тысяча лет" второго экклесиологического периода — имперского периода — имела таким образом промыслительное приращение в двухсотлетнем периоде Святой Руси (1453 — 1656). Пути же латинства давно уклонились от Православия и говорить об "имперской онтологии" здесь было бессмысленно (хотя, заметим, что именно этот "катехонический" аспект лежал в основе гиббелинской оппозиции Штауфенов всевластию папизма и гвельфской партии). Конец московского периода означает конец милосердного добавления срока к эсхатологическому тысячелетию. На этот момент приходится русский раскол, смысл которого и заключался в страстотерпном свидетельствовании староверами катастрофической природы реформ, начиная с Никоновской справы до ужасного финала в соборе 1666-67 годов, где официальная церковь формально анафематствовала эсхатологическое учение о Москве-Третьем Риме, о домостроительной богоизбранности Московского Царства, сравняло пункты Стоглава с прахом. Восточные патриархи, санкционировавшие и вдохновившие такие нововведения, возможно, руководствовались спецификой своей собственной экклесиологической позиции. Ранее связав "имперскую онтологию" исключительно со Вторым Римом и утратив ее вместе с военно-политическим крахом Константинополя, греки перенесли свой собственный катастрофический, уже постимперский, посткатехонический опыт и на саму Русь, отвергнув даже возможность того, что там могли в полной мере сохраниться те условия, которые существовали в ранее в самой Византии. Отсюда и высокомерное презрение к русскому обряду, который, как сегодня убедительно доказали беспристрастные историки этого вопроса, был полноценным и совершенно неискаженным продолжением самой византийской православной традиции, застывшей, однако, у нас в тот момент, когда Константинополь пошел на предательскую унию, а позже пал. Русский обряд, анафематствованный реформаторами рокового собора 1966-67, был архаической формой византийского обряда и ничем иным (это был в основе своей древний Студийский устав, наиболее распространенный в Византии, с некоторыми добавлениями Иерусалимского устава, тогда как в греческой церкви к XVII веку Иерусалимский устав полностью вытеснил Студийский). А староверческая убежденность в его превосходстве над новогреческой формой также была совершенно оправдана эсхатологическим учением о "катехоне" и о духовной порче традиции, утратившей свое "хилиастическое" качество. Страстная реакция староверов на реформы, вплоть до самых радикальных форм (гари), была обусловлена глубоким и естественным ощущением соучастия всего русского народа и Русской Церкви именно во втором экклесиологическом периоде Православия, пронзительным осознанием онтологических и антропологических последствий отказа от полноценной миссии Руси как "удерживающего". Отсюда совершенно справедливые ожидания прихода антихриста. Теперь уже во всем мире (кроме таинственного "Камбайского Беловодского царства", не существующего на карте, где, по мнению старообрядцев, еще сохранилась подлинная непорченая иерархия, т.е. "имперская онтология") совершился переход к новому экклесиологическому периоду — третьему. Церковь здесь снова, почти как во времена первых христиан, оказалась в безблагодатном мире, подчиненным свинцовой пяте "князя мира сего". Промежуточная реальность имперского хилиазма исчезла. Между Церковью и миром вновь разверзлась пропасть. Важно заметить, при этом, что помимо сходства между доимперской и послеимперской Церковью есть и существенные различия. В первом случае Римское Царство еще не стало Православным, еще не приняло миссии "держащего". Во втором случае Царство уже не являлось полноценным, уже не исполняло этой роли. Между "еще" и "уже" проходит линия онтологического разлома. Когда нечто не подверглось преображающему воздействию, но ему суждено подвергнуться ему — это одно дело. Здесь внутренне зреют праведные пути, хотя внешнее может быть греховным. Это — "еще не". "Уже не" означает, что положительное и праведное перестало быть таковым по существу, что оно остается им только внешне, а содержание безвозвратно испорчено. Фасад остается святым, внутри же громоздится апостасия. "Если соль испортится"... Третий экклесиологический период ставит проблему соотношения Церкви и мира в новом свете, и этому нет адекватных аналогий в предшествующие эпохи. И здесь мы сталкиваемся с невероятно нагруженным духовным содержанием вопросом — может ли в этот период сама Церковь, которая в определенных аспектах подлежит страшному лаодикийскому приговору "уже не", "вспомни откуда ты ниспал" — может ли она широкомасштабно, соборно и единодушно дать общую экклесиологическую картину этого начавшегося страшного цикла, однозначно расставить в нем акценты, беспристрастно оценить позиции всех сил и направлений, продолжающих причислять себя к христианству? И какова будет обоснованность такой экклесиологии, коль скоро по определению значительная часть (а точнее большинство) христианских церквей глубоко затронуты в земном, историческом смысле последствиями утраты "имперской онтологии"? Важно сказать несколько слов о том, каковы онтологические последствия такой утраты. Речь идет об исчезновении, сокрытии той "новой жизни", которая составляла сущность имперской реальности, ее литургическое, соборное, коллективное действие, направленное к обожению и имеющее в качестве опоры преображенные стихии. Отныне "новая жизнь" становится не нормой, но исключением, преображенность мира в Святом Царстве сворачивается как горящие небеса апокалипсиса и становится достоянием отдельных фрагментарных частей. На этом основаны многочисленные легенды ранних староверов, что "где-то сохранились места, в которых существует неповрежденная истинная православная иерархия". Это "где-то" имеет колоссальный онтологический смысл. Подлинная имперская реальность из повседневной реальности уходит в область мифов и легенд, становится трудно доступной, исключительной, из категории данности переходит к качеству задания. Теперь не само спасение и "обожение", "святость" становятся "заданием", но только еще предпосылки к такой возможности уже становятся сами по себе проблематичными. И чем трагичнее и катастрофичнее понимание необратимости и апокалиптической нагрузки этого события — тем глубже и подлинней вера, яснее понимание экклесиологической проблематики Церкви, полнее и истинней богословский порыв. Московская Патриархия, в свою очередь, осталась лояльной к Советской власти. Мы уже упоминали символические черты, сопутствующие большевизму - перенос столицы в Москву, восстановление в 1917 патриаршества на Руси, обретение "Державной", "Деяния" 1929 г., Собор РПЦ 1971 и т.д. Будто какие-то знаки указывали на сложный и превышающий рассудок замысел Господа о Церкви и человечестве. Как бы то ни было, и у "зарубежников", которые, кстати, оказавшись в чрезвычайно тяжелом положении, вспомнили о важности роли "катехона" (с этим связана и канонизация Николая Второго), и у "сергиан" была своя экклесиологическая правда., а значит, и здесь можно найти "филадельфийские" элементы. Черты антихриста в лице большевиков бесспорны. Но и на либеральном Западе, куда вынуждены были отправиться белые эмигранты, степень апостасии была никак не меньшей (если не большей). Тем более, что все вредоносное и наиболее отталкивающее в русском коммунизме есть прямое заимствование с Запада. На Западе антихрист верховодил самое малое тысячу лет, и проникновение его вглубь западного бытия, западной онтологии не могло не быть решающим. Если и судить большевиков, то никак не глазами "прогрессивного человечества", которое и есть для православных очевидное скопище покорных и добровольных, высокомерных и агрессивных "слуг антихриста". Да и с позиций романовского уклада окончательный суд выносить не стоит, если вспомнить на каком фундаменте покоился сам этот уклад. Поэтому здесь мы выходим за грань однозначных оценок. Важно лишь, что и у зарубежников, и возможно с еще большими основанием у "сергиан" была своя промыслительная правда, которую необходимо учесть в филадельфийском утверждении. Подведем
итог: Филадельфийская Церковь, призванная дать последний и решительный
бой антихристу, отличается следующими экклесиологическими характеристиками. Эти три важнейшие элементы Истины, рассеянные по разным течениям Русского Православия, а также некоторые аспекты греческой Церкви - особенно связанные с монашеским умным деланием, с Афоном и исихазмом - и иных православных Церквей (сербской, болгарской, румынской, молдавской, македонской и т.д.) являются теоретическими богословскими и экклесиологическими пределами, в которых может и должно состояться филадельфийское возрождение непосредственно перед точкой Конца, дату которой знать никому не дано, но ждать и страстно желать которую является нашим религиозным долгом. Вспомним слова "Откровения" Иоанна Богослова (3, 7-13) :
Знаю твои дела: вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. Вот сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю то, что они прийдут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что Я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая прийдет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уж не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит Церквям." 6. Страшный Суд Есть множество причин, по которым "Филадельфийский план" апокалиптического восстановления Церковного Единства, понятого только и исключительно в православном смысле, может показаться утопичным. Церковь сегодня как никогда раньше далека не только от возможности объединения, но и постоянно находится под угрозой дальнейшего дробления и прогрессирующего распада. Темные ереси, либеральные реформы, откровенная агрессия антихристового Запада обрушиваются на этот корабль Спасения с новой невиданной силой. Кажется, хватило бы сил сохранить то, что осталось, куда там, грезить о Возрождении... Но это слишком человеческий подход. Он выдает прохладу веры. Стоит только всерьез задуматься об огненной реальности Страшного Суда, о разверзшейся пасти ада и головокружительной вспышке Света Славы Господней, стоит только понять, к событию какого порядка и какого значения мы неумолимо приближаемся, как непреодолимое покажется несущественным, невозможное обратится легко исполнимым, твердое станет податливым и прозрачным. Перед лицом Второго Пришествия нет вообще никаких постоянных величин или безотзывных очевидностей. Все дрожит и плавится как тонкий, снедаемый нездешним пламенем свиток. Неизбежности нет. Есть возможность. Остальное зависит от тех, кто сохранил несмотря ни на что верность Истинной Церкви и Истинному Царству, Последнему Царству неубиенной, неуничтожимой Святой Руси, тревожным благовестом взывающей из глубин нашей души. Русской Души. |
ГарьДугинскиететрадки Беседа Ответы на вопросы Евразийство и староверие Абсолют византизма Преодоление Запада Имя моё - топор Эссе о галстуке Полюс русского круга Капитализм Террор против демиурга Возвращение бегунов Такое сладкое нет Кадровые Сторож, Сколько ночи О Третьем Риме Яко не исполнилось число звериное Филолог Аввакум Мы Церковь последних времен Москва как идея Доклад на Соборе РДПЦ, белокриничан Старая Вера, круглый стол в газете Завтра Старообрядчество и Русская Нац.Идея Никола Клюев - пророк секретной России Грани Великой Мечты 
|